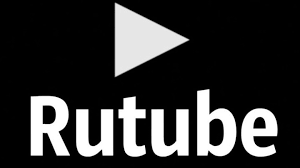
 |
 |
|
||||
 План мероприятий БИК План мероприятий БИК Выставки Выставки Виртуальные выставки Виртуальные выставки Семинары, презентации, Семинары, презентации, Тема года Тема года 1941-1945. Мы помним, 1941-1945. Мы помним, Буккроссинг Буккроссинг Дарители Дарители Дополнительное образование. Дополнительное образование. |
Великие экономисты и великие реформы Кризисы, реформы, революции. К 80-летию реформ Ф.Д. Рузвельта
В течение всех десятилетий, которые отделяют нас от периода Нового курса Ф.Рузвельта, оценка его роли в истории Соединенных Штатов все время была и остается до сих пор предметом ожесточенной идейной борьбы различных социально-политических групп американского общества. И это не случайно: реформы, проведенные ад¬министрацией Ф.Рузвельта в 30-х годах, стали крупнейшим рубежом в истории США в XX веке, определили преобладающую тенденцию в эволюции социально-экономической и политической структуры современного общества. Непосредственные предпосылки Нового курса были созданы в период глубочайшего во всей истории капитализма экономического кризиса 1929-1933 гг. Однако корни этой политики уходят далеко вглубь американской истории. Основные постулаты либеральной идеологии сложились и заняли ведущее место в идейном арсенале важнейших стран Западной Европы и Северной Америки в первой половине XIX века, в период бурного развития капитализма. Это и стало основой для выдвижения на первый план идеологии классического либерализма, в которой традиционные либеральные принципы индивидуальной свободы и политической демократии соединились с учением о свободной рыночной экономике и невмешательстве государства в экономическую жизнь общества. Главным отличием той модели классического либерализма, которая сформировалась в Соединенных Штатах, был пронизывавший ее демократический дух, твердая ориентация ее сторонников на джефферсоновские идеалы политического равенства, социального эгалитаризма и индивидуальной свободы. Эта модель либерально-демократического индивидуализма находила тогда широкую поддержку в массах рядовых американцев. В обстановке бурного экономического подъема, свободного доступа к западным землям после принятия акта о гомстедах и характерного для того периода высокого уровня социальной мобильности населения большинство американцев было уверено в том, что в стране сохраняется реальное равенство возможностей и что успех или поражение в борьбе за “место под солнцем” зависит только от личных способностей и усилий каждого человека. Однако в течение последних десятилетий XIX века либерально-реформистский облик американского общества, утвердившийся после Гражданской войны, претерпел решительные изменения. Основой этих кардинальных сдвигов стало возникновение системы гигантских трестов и других монополистических объединений, которые, действуя в тот период без каких-либо серьезных ограничений, уже к началу XX века превратили Соединенные Штаты в классическую страну корпоративного капитализма. В условиях неограниченного господства крупных корпораций идеология классического либерализма стала стремительно терять свои демократические черты. Идеи индивидуальной свободы и равенства возможностей все чаще стали толковаться в духе социал-дарвинистских концепций “борьбы за существование” и “выживания наиболее приспособленных”. Эти доктрины “твердого индивидуализма” были взяты на вооружение могущественных “капитанов индустрии”. Не удивительно, что в этой кардинально изменившейся обстановке, в условиях резкого сокращения социальной мобильности населения образ Америки как страны равных возможностей, где движение по “социальной лестнице, ведущей вверх”, зависит лишь от личной предприимчивости человека, стал все более тускнеть в сознании представителей социальных низов, испытывавших суровые бедствия, особенно в годы затяжных экономических депрессий, но лишенных какой бы то ни было помощи со стороны тех же самых правительственных кругов, которые предоставляли воротилам корпоративного бизнеса неограниченные возможности для обогащения. Неблагоприятные последствия господства крупного капитала ощущали на себе и средние слои населения. Они все острее чувствовали явное понижение своего социального статуса. В этих условиях в конце XIX века и появились первые признаки глубокого кризиса капитализма свободной конкуренции. Со всей силой стало проявляться противоречие между экономической эффективностью капитализма и его асоциальностью. Сила и притягательность индивидуалистической идеологии были ослаблены. В порядок дня стал вопрос о необходимости позитивных регулирующих действий государства с целью смягчения экономических последствий процесса монополизации и создания системы социальной защиты членов общества. Под воздействием сильной волны радикально-демократических антимонополистических движений, развернувшихся в конце XIX века, в период Прогрессивной эры были предприняты первые попытки реформирования традиционных институтов американского общества в соответствии с постулатами идеологии нового либерализма. Теоретические основы этой идеологии были разработаны в начале XX века в трудах видных представителей общественной мысли США Герберта Кроули, Луиса Брандейса и их единомышленников. Идеологи нового либерализма исходили из того, что в изменившейся обстановке корпоративной Америки либералам надо отказаться от концепции “пассивного государства”. Напротив, государство должно стать регулятором экономической и социально-политической жизни общества. Впервые эта концепция государственного активизма нашла свое практическое воплощение в политике “нового национализма” и “новой свободы”, неразрывно связанной с именами Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона. Либеральные реформы, проведенные в период Прогрессивной эры, способствовали некоторому ограничению монополистической практики и пресечению наиболее вопиющих проявлений корпоративного произвола. Были проведены также меры по введению элементарных норм трудового законодательства и по демократизации избирательной системы. Все эти реформы Прогрессивной эры представляли собой первые шаги на пути приспособления традиционной структуры американского общества к потребностям социального прогресса, к новой обстановке, созданной превращением Америки в страну корпоративного капитализма.
Выполнение этой задачи прогрессивного реформирования американского капитализма стало главной, первостепенной необходимостью в начале 1930-х годов, в период “великой депрессии”. Экономический кризис 1929-1933 гг., самый глубокий кризис во всей истории капиталистической цивилизации, до основания потряс всю структуру американского общества. Гигантское падение промышленного производства, многомиллионная безработица, массовое разорение фермеров и средних слоев города, все более нараставшая волна коммерческих банкротств и банковских крахов - все это нанесло беспощадный удар по благосостоянию большинства американцев, ввергнув многих из них в безысходный кошмар нищеты, голода и пауперизма.
Психологическое влияние “великой депрессии” на миллионы рядовых американцев было тем более сильным, что катастрофическая обстановка, созданная кризисом, была глубочайшим контрастом по сравнению с относительным благополучием, которое переживали Соединенные Штаты в период капиталистической стабилизации 20-х годов, и тем более по сравнению с благостными картинками “нескончаемого процветания”, рисовавшимися в те годы официальной пропагандой. Полное отсутствие какой бы то ни было государственной системы социальной защиты жертв обрушившихся на страну экономических бедствий делало их положение особенно трагичным. Не удивительно, что в начале 30-х годов в Соединенных Штатах стали один за другим возникать очаги социального протеста. Конечно, тяжелые удары кризиса нередко полностью парализовали волю рядовых американцев, и их возмущение далеко не всегда перерастало в открытые выступления. Но все же по мере углубления экономических бедствий движения социального протеста стали принимать все более массовый характер. Все это отразило глубокие сдвиги в массовом сознании. Крупный капитал вновь стал объектом острой критики. В этой до предела напряженной политической обстановке и началась в 1932 г активная деятельность Франклина Делано Рузвельта, выдвинутого кандидатом на пост президента США от Демократической партии и развернувшего энергичную агитационную кампанию под лозунгом Нового курса. Уже в ходе этой предвыборной кампании Франклин Рузвельт убедительно продемонстрировал свой незаурядный талант искусного политического деятеля, умевшего соединять стойкие либеральные убеждения, закрепленные всей его предшествовавшей карьерой, с чувством нового, с готовностью на смелое экспериментирование и, с другой стороны, со склонностью к прагматизму и к политическому маневрированию. Конечно, в 1932 г у Рузвельта не было, да, вероятно, и не могло быть четко разработанной конкретной программы Нового курса. Но через все предвыборные выступления кандидата демократов красной нитью проходила идея активного государственного регулирования с целью изменения распределительного механизма американской экономики и обеспечения социальной защиты “забытого американца у подножья экономической пирамиды” 5. Вопрос о том, каким путем надо осуществить эти идеи, Рузвельт вполне сознательно откладывал на будущее. Ему важно было показать свое принципиальное отличие от Гувера, упорно твердившего о незыблемости индивидуалистических канонов. В противовес кандидату республиканцев Рузвельт призывал к отказу от изживших себя традиций и к решительным смелым экспериментам.
В предвыборных речах кандидата Демократической партии в 1932 г. иногда высказывались и более смелые и весьма необычные для того времени идеи. Так, совершенно по-новому ставилась им проблема соотношения между правами человека и ответственностью государства. В программной речи в Сан-Франциско 23 сентября 1932 г Рузвельт говорил о том, что в новых условиях XX века необходимо дополнить положения Декларации независимости о защите естественных и неотчуждаемых прав человека провозглашением “декларации экономических прав”. “Каждый человек имеет право на жизнь, - утверждал он, - а это значит, что нельзя отрицать и его права на достаточно обеспеченные жизненные условия... Правительство должно дать каждому человеку возможность добиться своим трудом обладания необходимой для его нужд части общественного богатства... Если для обеспечения этого права человека надо ограничить собственнические права спекулянта, манипулятора, финансиста, я считаю такое ограничение совершенно необходимым” В этих рассуждениях Рузвельта было дано теоретическое обоснование необходимости предоставления государству широких социальных функций. В них содержалась по сути дела программа создания системы государственной социальной защиты членов общества. Разумеется, необходимость следовать весьма традиционным официальным рекомендациям платформы партии нередко придавала речам кандидата демократов черты непоследовательности и противоречивости. Но это также было частью тактического курса Рузвельта в ходе предвыборной кампании. Ведь ему необходимо было объединить вокруг себя все долгое время враждовавшие между собой фракции Демократической партии, а значит, и слои населения, шедшие за ними, завоевать голоса избирателей с весьма различными взглядами. Гибкая тактика кандидата демократов, значительно меньшая его обремененность индивидуалистическими путами, провозглашенный им курс на смелое экспериментаторство и либеральные реформы - все это в обстановке усиливавшегося недовольства избирателей политикой республиканской администрации обеспечило Рузвельту убедительную победу на выборах. Между тем экономический кризис в стране бушевал с неослабевающей силой, и конца ему по-прежнему не было видно. Более того, в феврале 1933 г, в последние недели, а затем и дни республиканского правления, вслед за новым падением производства начался полный развал банковской системы, которая по сути дела перестала функционировать. Банковская катастрофа практически парализовала экономическую жизнь страны. В этой чрезвычайной обстановке все слои американского общества жаждали действия. Представители делового мира готовы были поддержать любые меры, способные остановить дальнейший развал экономики и вдохнуть новые силы в капиталистическую систему. С мольбой и надеждой смотрели на Белый дом и миллионы рядовых американцев. Они хотели видеть нового президента полным уверенности, оптимизма и энергии. Именно таким и показал себя Франклин Рузвельт 4 марта 1933 г в своей официальной речи при вступлении на пост президента. Ее лейтмотивом было обещание самых энергичных действий по борьбе с кризисом. Для успеха в этой борьбе, заявил он, необходимо “предоставить исполнительной власти такие же широкие полномочия, какие были бы даны президенту, если бы внешний враг вторгся в нашу страну” С первых же дней после своего прихода к власти правительство Рузвельта приступило к целой серии чрезвычайных мер. Уже 9 марта 1933г оно созвало специальную сессию Конгресса, работа которой продолжалась более трех месяцев. Конгресс принял множество законов, которые охватили в совокупности все стороны экономической и социально-политической жизни Соединенных Штатов. Так уже в течение “первых ста дней” деятельности президента Рузвельта были заложены основы политики, явившиеся конкретной реализацией выдвинутого им лозунга Нового курса.
Одной из важнейших задач политики Нового курса на первом этапе ее развития (1933-1934 гг.) было сохранение и максимально возможное укрепление корпоративной структуры американской финансово-экономической системы. В чрезвычайных условиях кризиса Рузвельт вполне сознательно отказался от всякой антимонополистической риторики и взял курс на прямое сотрудничество с крупным корпоративным бизнесом с целью оздоровления экономики и укрепления основ капиталистического строя. Однако выполнение этой задачи было невозможно без внесения крупных изменений в структуру капитализма, без ограничения присущей ему асоциальности, без создания системы социальной защиты населения, рассчитанной на укрепление социальной стабильности общества. Поэтому уже на первом этапе Нового курса администрация Рузвельта направила свои усилия на проведение ряда либеральных реформ с целью расширения социально-политических прав рабочих, фермеров, городских средних слоев. Практические действия правительства Рузвельта на первом этапе Нового курса как раз и характеризовались этой двойственностью, соединением двух различных, но в то же время тесно взаимосвязанных направлений социально-экономической политики. В какой-то мере эта двойственность была результатом того, что, действуя в чрезвычайной обстановке, администрация Рузвельта вынуждена была руководствоваться при выборе приоритетов своего политического курса не четко разработанной теоретической программой реформ, а наиболее настоятельными нуждами текущего момента, требующими немедленного реагирования. Однако этот несомненный прагматизм политики Рузвельта, на который обычно делается упор во многих исследованиях, вовсе не исключал четкой руководящей идеи первого этапа Нового курса. Она заключалась в том, чтобы средствами активного государственного регулирования добиться преодоления кризиса, укрепить основы существующего строя, создать в стране обстановку социального мира и обеспечить рузвельтовской администрации имидж поборника общенационального единства. В выступлениях 1933-1934 гг. Рузвельт не раз развивал эти руководящие идеи. “Новый курс, - говорилось в одном из них, - стремится сцементировать все наше общество, богатых и бедных, в добровольное братство свободных граждан, сплоченных воедино и стремящихся к общему благу для всех” В сфере финансово-банковской политики приоритет сразу же был отдан мерам в пользу крупного капитала, хотя, конечно, в спасении банковской системы от полного краха и в возобновлении ее нормального функционирования так или иначе были заинтересованы все американцы. По условиям чрезвычайного банковского акта, проведенного новым правительством через Конгресс в первые же часы его специальной сессии, право на открытие и на получение государственного займа имели только “здоровые” банки, которыми на практике оказывались, как правило, крупные банки. Операции правительственной Реконструктивной финансовой корпорации, начатые еще в 1932 г Гувером, были теперь значительно расширены. За первые два года Нового курса сумма займов РФК превысила 6 млрд. долл. Неизбежным результатом этой политики было вытеснение многих мелких банков и дальнейшая концентрация банковской системы.
Другие финансовые мероприятия администрации Рузвельта в 1933-1934гг - расширение полномочий Федеральной резервной системы и установление правительственного контроля над нею, сосредоточение в руках государства всего золотого запаса страны, девальвация доллара - были направлены главным образом на увеличение финансовых ресурсов государства и на усиление его регулирующих функций. Но одновременно с этим были приняты меры к успокоению мелких акционеров и вкладчиков. Проведенный в 1933 г закон Гласса-Стигалла четко разделил депозитные и инвестиционные функции банков, поставив тем самым известный барьер спекулятивным операциям. Вводилось также страхование банковских вкладов, 100-процентное для вкладов, не превышавших 10 тыс. долл., и частичное для вкладов больших размеров. Одновременно правительство Рузвельта добилось значительного упорядочения операций на фондовых биржах. С целью ограничения биржевых спекуляций, получивших поистине скандальный характер в годы “просперити”, была создана специальная Комиссия по торговле акциями, которой было поручено регулировать операции фондовых бирж и следить за тем, чтобы строго соблюдались установленные законом правила выпуска и распространения акций. Явным приоритетом при определении характера государственного регулирования промышленности также пользовались круги крупного корпоративного бизнеса. Не случайно в основу Национального закона о восстановлении промышленности (НИРА), принятого 16 июня 1933 г, был положен план, предложенный еще в 1931 г президентом фирмы “General Electric” Джерардом Своупом и одобренный затем Торговой палатой США. В соответствии с ним всем ассоциациям предпринимателей было предписано выработать так называемые кодексы честной конкуренции, которые после их утверждения президентом приобретали силу закона. В кодексах определялись условия и объем производства, а также минимальный уровень цен. На время действия НИРА, ограниченное двумя годами, все эти операции исключались из сферы действия антитрестовского законодательства. Осуществление закона о восстановлении промышленности значительно укрепило корпоративную структуру американской экономики. Задавая тон при разработке кодексов, представители крупнейших корпораций диктовали условия производства и сбыта всем остальным промышленным предприятиям и фирмам. Неизбежным результатом государственного регулирования промышленности на основе НИРА стало принудительное картелирование промышленности и укрепление позиций корпоративного бизнеса. Однако наряду с этим закон о восстановлении промышленности официально декларировал признание ряда социально-политических прав рабочих. Статья 7а НИРА предписывала предпринимателям фиксировать в кодексах обязательный минимальный уровень заработной платы и максимальную продолжительность рабочей недели. В той же статье провозглашалось право рабочих на объединение в профсоюзы и на заключение коллективного договора. Официальное закрепление в кодексах некоторых важных норм трудового законодательства создавало более благоприятную обстановку для борьбы за реальное улучшение условий найма рабочей силы. Но все же это был только первый шаг на пути к созданию системы трудовых отношений, соответствующих условиям высокоразвитого индустриального общества.
В законе о восстановлении промышленности был также раздел об организации общественных работ для безработных. На основе этого закона была создана Администрация общественных работ (PWA) во главе с министром внутренних дел Г.Икесом. На осуществление работ по проектам PWA было ассигновано 3,3 млрд. долл. Кроме мер, предусмотренных в НИРА, администрация Рузвельта использовала и другие каналы помощи безработным. Так, весной 1933 г началось создание сети лесных лагерей для безработной молодежи. Тогда же Федеральная администрация по оказанию чрезвычайной помощи (FERA) во главе с Г.Гопкинсом приступила к выдаче финансовых дотаций штатам для оказания помощи безработным. Наконец, в ноябре 1933 г, была основана Администрация гражданских работ (CWA), в задачу которой входило предоставление безработным временного занятия в течение зимних месяцев. Уже на первом этапе Нового курса масштабы организованных правительством общественных работ были весьма значительными. На них было занято в среднем 2,5-3 млн., а в отдельные месяцы даже до 4,5 млн. человек. Но все же они в лучшем случае поглощали не более четверти армии безработных, а остальные по-прежнему были лишены помощи.
Весьма противоречивый характер носили мероприятия рузвельтовской администрации в сфере аграрной политики. Главной задачей закона о помощи фермерам, принятого 12 мая 1933 г, было повышение цен на продукты сельского хозяйства. Достигнуть этой цели намечалось путем сокращения посевных площадей и поголовья скота, за что фермерам полагалась специальная премия. Источником этих правительственных субсидий стал налог на первичную обработку сельскохозяйственных продуктов, то есть в конечном счете налог на потребителей. Осуществление этой программы поручалось Администрации восстановления сельского хозяйства (ААА). Закон о помощи фермерам предусматривал рефинансирование фермерской ипотечной задолженности. Общая сумма займов, предоставленных в течение 1933-1935 гг. фермерам-должникам, превысила 1,5 млрд. долл. Правительственные займы предотвратили крах многих банков и страховых компаний, державших фермерские ипотеки. Они укрепили положение более состоятельных групп фермеров-должников. Что же касается мелких фермеров, то многие из них по-прежнему были предоставлены самим себе, ибо условия рефинансирования были для них недоступны. Серьезный вызов политике рузвельтовской администрации составила в 1934-1935 гг. оппозиция Новому курсу слева. Практическая деятельность правительства Рузвельта по осуществлению программы реформ, на которые массы рядовых американцев возлагали столь радужные надежды, очень быстро показала многим из их, что Новый курс далеко не приносит того, что им было обещано и чего они от него ждали. К тому же после кратковременного улучшения экономической конъюнктуры промышленное производство в США вновь стало сокращаться. Оно все еще было гораздо ниже уровня 1929 г. В стране по-прежнему сохранялась массовая безработица. Кризисное положение было в сельском хозяйстве. В 1934-1935 гг. в США развернулась сильная волна массовых демократических движений. Более реалистический и целенаправленный характер носило возобновившееся в те годы движение за независимые политические действия и создание третьей партии. Важную роль в этом движении играли Лига за независимые политические действия, созданная еще в 1929 г группой радикальной интеллигенции, и две наиболее крупные местные третьи партии - Фермерско-рабочая партия Миннесоты и Прогрессивная партия Висконсина. Оппозиция Новому курсу слева уже в 1934 г выросла в серьезную политическую силу. Это поставило перед правительством Рузвельта вопрос о дальнейших перспективах государственной социально-экономической политики, о преодолении недостаточной эффективности Нового курса. Оппозиция политике рузвельтовской администрации возникла в 1934-1935 гг. и справа. Консолидация ультрареакционных сил нашла наиболее четкое выражение в возникновении Американской лиги свободы. Эта ультраконсервативная организация была создана в августе 1934 г при непосредственном участии таких гигантов корпоративного бизнеса, как финансовая группа Дюпонов и автомобильный концерн “General Motors”. В руководство лиги вошли деятели консервативных кругов Демократической и Республиканской партий. Американская лига свободы потребовала полного отказа от государственного регулирования экономики и от всяких либеральных реформ. Имея неограниченные финансовые ресурсы, лига начала систематическую пропагандистскую кампанию против политики Нового курса. За первые два года президентства существенно эволюционировали и взгляды самого Рузвельта. Мероприятия, проведенные им в течение “первых ста дней” Нового курса, были чрезвычайными экспериментами, рассчитанными на преодоление глубочайшего кризиса. Ни сам президент, ни большинство его советников еще не предусматривали тогда возможности превращения этих чрезвычайных мер в постоянный курс социально-экономической политики и не подвергали сомнению принцип поддержания сбалансированного бюджета. Опыт первых лет Нового курса стал постепенно менять их отношение к вопросу об условиях и сроках применения мер государственного экономического регулирования, а в какой-то мере и к вопросу о правомерности практики дефицитного финансирования. В распространении этих взглядов определенную роль играло то, что в кругах советников Рузвельта становилась все более популярной экономическая теория Джона Мейнарда Кейнса. В 1935 г в политике Нового курса произошел значительный сдвиг влево. Начался второй этап Нового курса, главной отличительной чертой которого было то, что, отказавшись от политики балансирования, правительство Рузвельта в гораздо большей, нежели ранее, степени стало учитывать интересы трудового населения городов и ферм. Весной и летом 1935 г, в течение “вторых ста дней” Нового курса, была проведена новая серия чрезвычайно важных либеральных реформ. На первый план в политике федерального правительства стал все более выдвигаться социальный аспект. Наиболее крупным социальным завоеванием второго этапа Нового курса стал Национальный акт о трудовых отношениях, или закон Вагнера, вступивший в силу 5 июля 1935 г. В этом самом радикальном законе Нового курса положения о правах рабочих получили принципиально новое толкование по сравнению с тем, как они трактовались в НИРА. Закон Вагнера не только декларировал права рабочих на организацию и на заключение коллективного договора, как это было зафиксировано в статье 7 а НИРА, но и гарантировал им право на вступление в избранный ими профсоюз и на заключение коллективного договора между выборными представителями рабочих и предпринимателями. Правительство не только провозгласило законность профсоюзной деятельности, но и легализовало принцип “закрытого цеха” как высшей формы профсоюзных гарантий. Было закреплено также право рабочих на стачку и пикетирование. Важным нововведением закона Вагнера было существенное ограничение предпринимательских прерогатив. Отныне правительственные органы должны были пресекать такие виды “нечестной трудовой практики” предпринимателей, как преследование рабочих за участие в профсоюзном движении, создание компанейских союзов, отказ от переговоров с выборными представителями рабочих по вопросам заключения коллективного договора. Контроль за осуществлением закона был возложен на Национальное управление по трудовым отношениям, решения которого были обязательны для предпринимателей и могли оспариваться ими только через суд. Другой важнейшей социальной реформой второго этапа Нового курса было принятие первого в истории Соединенных Штатов федерального закона о социальном страховании. Этот закон, подписанный президентом Рузвельтом 14 августа 1935 г, вводил страхование двух видов - систему пенсий по старости и пособий по безработице. Условия и нормы пенсионного обеспечения были едиными для всей страны. Его фонды создавались за счет паритетного налогового обложения предпринимателей и лиц наемного труда. Страхование по безработице строилось на федерально-штатной основе. Конгресс устанавливал лишь порядок создания фондов и нормы налогового обложения предпринимателей, а круг получателей пособий, размеры и сроки их выплат определялись законодательством штатов. Существенной слабостью нового закона было то, что он распространялся только на рабочих относительно крупных промышленных предприятий и совсем не охватывал рабочих и служащих, занятых в торговле, сфере обслуживания и в сельском хозяйстве. Но при всех своих недостатках закон о федеральной системе социального страхования стал, наряду с законом Вагнера, крупной вехой в истории либерального социального законодательства в США. На втором этапе Нового курса произошло значительное увеличение масштабов общественных работ и расширение их клиентуры. В апреле 1935 г конгресс принял закон, который предусматривал новые, очень крупные ассигнования на эти цели - 4,9 млрд. долл. Для руководства осуществлением этой обширной программы была создана новая организация - Администрация по реализации общественных работ (WPA) во главе с Г.Гопкинсом. В отличие от действовавшей с 1933 г Администрации общественных работ (PWA), которая делала упор на осуществление крупных проектов капитального строительства, рассчитанных на стимулирование экономики, руководства WPA стремилось занять на своих объектах возможно большее число безработных на любой работе, не требующей крупных капиталовложений. 85% всех расходов на объектах WPA шло на заработную плату и жалованье клиентам. Новая организация оказала большую помощь также лицам интеллектуальных профессий - артистам, писателям, художникам, архитекторам. В целом уже весной 1936 г на различных объектах WPA было занято около 3,5 млн. человек. Важным результатом этой деятельности было укрепление производственной и создание основы социально-культурной инфраструктуры американского общества. Таким образом, на втором этапе Нового курса произошли решительные изменения в характере социальной политики правительства Рузвельта. На первый план в ней была выдвинута проблема проведения реформ в пользу широких слоев населения США. Но серьезный сдвиг влево в политике Нового курса на втором этапе его эволюции вызвал острое недовольство консервативных групп крупного капитала. Это недовольство переросло в открытое сопротивление, когда летом 1935 г правительство Рузвельта провело через Конгресс два важных закона, так или иначе затрагивавших материальные интересы корпоративных фирм и крупных собственников. Первой из этих мер был акт о регулировании держательских компаний в сфере предприятий общественного пользования, принятый в августе 1935 г. По условиям нового закона все частные фирмы, обеспечивавшие потребности страны в газе и электроэнергии, ставились под жесткий государственный контроль. Полностью запрещались многоэтажные пирамиды держательских компаний, получившие широкое распространение в США. Одновременно с этим был принят новый налоговый закон, который значительно увеличил налоговое обложение групп населения с особо высоким уровнем доходов, а также налоги на сверхприбыли корпораций. Но по сравнению с 1933 г в позиции президента Рузвельта по отношению к кругам консервативного бизнеса произошли существенные изменения. На втором этапе Нового курса, после серии проведенных тогда либеральных реформ и в особенности в преддверии избирательной кампании 1936 г, Рузвельт счел целесообразным перейти от прямого сотрудничества с крупным корпоративным бизнесом, что он полагал абсолютно необходимым в чрезвычайной кризисной обстановке 1933 г, к критике чрезмерной мощи крупнейших корпораций в экономике и их политических амбиций в политической жизни страны. Не случайно в выступлениях президента во время “вторых ста дней” Нового курса вновь отчетливо зазвучала антимонополистическая риторика.
Крупный сдвиг влево в политике Нового курса явился главной причиной блестящей победы Рузвельта на выборах 1936 г. Эта блистательная победа означала, что американский народ дал ему мандат на продолжение политики либеральных реформ. Настоятельная необходимость дальнейшего следования по этому пути отчетливо осознавалась и президентом. В очередном послании Конгрессу о положении в стране в начале января 1937 г Рузвельт говорил, что двумя главными направлениями политики Нового курса являются помощь государства в восстановлении экономики и “обдуманный курс на повышение личного благосостояния и расширения возможностей для масс народа”. И в том и в другом случае правительство стремится к “успешному приспособлению наших исторических традиций к условиям сложного современного мира”. Поляризация социальных сил американского общества поставила перед рузвельтовской администрацией чрезвычайно трудные проблемы. С одной стороны, усиление консервативных настроений не только в кругах крупного корпоративного бизнеса, но и в широких слоях мелких и средних предпринимателей, зажиточных фермеров и других представителей средних слоев, напуганных “сидячими стачками” и другими проявлениями радикализма в рабочем движении, заставили президента кое в чем пойти навстречу требованиям бизнеса. В бюджетном послании Конгрессу в январе 1937 г говорилось о необходимости достижения сбалансированного бюджета и о сокращении федеральных ассигнований на общественные работы. В начале 1937 г произошла определенная трансформация политики Нового курса, изменение приоритетов в практических действиях рузвельтовской администрации по осуществлению программы реформ. Начался новый, третий этап Нового курса, когда правительство Рузвельта, встретившись с сильной оппозицией продолжению линии на активное социальное реформаторство, направило свои основные усилия на закрепление уже достигнутого, на упорядочение и консолидацию многочисленных федеральных агентств, созданных за предшествующие годы Нового курса. Следовательно, на третьем этапе Нового курса перед рузвельтовской администрацией встала задача институционализации политики либеральных реформ13. Этой цели и служили выдвинутые президентом план реформы Верховного суда и проект административной реформы. План реформы Верховного суда был предложен Рузвельтом 5 февраля 1937 г. Он предусматривал предоставление президенту права назначать с согласия сената дополнительных судей, если тот или иной член Верховного суда, достигший 70-летнего возраста, не захочет уйти в отставку. Общее число членов этой высшей судебной инстанции США не могло превышать 15 человек. По словам самого президента, целью предложенной реформы было “обеспечить постоянный приток свежей крови в судебную систему” и “привлечь к решению социально-экономических проблем людей более молодого поколения, которые хорошо знакомы с условиями жизни и труда рядовых американцев в современную эпоху”. Одновременно с планом реформы Верховного суда Рузвельт выступил также с проектом административной реформы. Он предусматривал расширение персонала Белого дома, создание Исполнительного управления президента и предоставление президенту права изменять структуру и характер функционирования органов исполнительной власти. В проекте также говорилось о необходимости укрепления и консолидации новых федеральных агентств социальной защиты и установления контроля над ними со стороны президентского аппарата. По расчетам Рузвельта, это могло сделать операции новых агентств более эффективными, и, самое главное, придать им постоянный статус. С этой целью предполагалось объединить большинство федеральных агентств, созданных в годы Нового курса, в два новых министерства - министерство общественных работ и министерство социальных услуг. Конечный исход борьбы по вопросу о реформе Верховного суда не был однозначным. Переориентация суда и отставка нескольких судей, позволившая Рузвельту пополнить Верховный суд либералами, привела фактически к осуществлению тех целей, которые ставил президент в феврале 1937 г. Наиболее важные меры социального законодательства, принятые в 1935-1936 гг., были теперь закреплены. Поэтому в какой-то мере Рузвельт был прав, когда он говорил впоследствии, что он проиграл сражение, но выиграл войну. Однако, с другой стороны, провал плана реформы Верховного суда в Конгрессе был серьезным поражением президента. Он означал, что уже сложился прочный консервативный антирузвельтовский блок республиканцев и южных демократов. Это существенно затруднило для Рузвельта и его сторонников проведение через конгресс планов расширения и институционализации либеральных реформ Нового курса. Ослабление позиций Белого дома в 1937 г четко обозначилось в ходе обсуждения Конгрессом важнейших законопроектов, разработанных рузвельтовской администрацией. Непримиримую оппозицию консервативного блока встретил, прежде всего, проект административной реформы и особенно предложение о создании новых министерств. Ни на регулярной сессии Конгресса в первой половине 1937 г, ни на его специальной сессии, созванной Рузвельтом в ноябре того же года, проект административной реформы так и не был принят. Та же судьба постигла и большинство новых правительственных планов социального законодательства. В течение 1937 г сторонникам президента удалось провести через Конгресс лишь законопроект о строительстве дешевого жилья, да и то предложенная правительством сумма федеральных ассигнований на эти цели была значительно сокращена. Все же остальные проекты социального законодательства в 1937 г так и не получили одобрения Конгресса.
Обстановка в стране и соотношение сил в Конгрессе существенно изменились, когда период благоприятной экономической конъюнктуры сменился осенью 1937 г новым экономическим кризисом. Наибольшей силы он достиг весной 1938 г. В первой половине 1938 г, в период наибольшего углубления нового экономического спада, правительству Рузвельта удалось добиться перелома в позициях большинства членов Конгресса и провести ряд новых социальных реформ, ставших главным достижением рузвельтовской политики на третьем этапе Нового курса. Первым важным актом законодательства этого периода стал новый сельскохозяйственный закон, принятый Конгрессом в феврале 1938 г. Полностью сохранив программу поддержания плодородия почвы, он значительно усилил регулирующие функции государства по контролю за сокращением посевных площадей и продукции животноводства и по проведению систематической скупки и хранения “излишков” сельскохозяйственной продукции. Закон предусматривал также проведение программы “страхования урожая”, которая предусматривала создание резервов сельскохозяйственной продукции на случай засухи и других стихийных бедствий. Наконец, учитывая недовольство мелкого фермерства, правительство Рузвельта включило в сельскохозяйственный закон 1938 г ряд положений, в какой-то мере защищавших мелких фермеров-арендаторов от сгона их с земли. Другим важным направлением политики правительства Рузвельта в 1938 г было возобновление широкомасштабных общественных работ для безработных. Были резко увеличены федеральные ассигнования на проведение общественных работ на различных объектах PWA и WPA. К концу 1938 г число рабочих, занятых на этих объектах, вновь увеличилось до 3,5 млн. На третьем этапе Нового курса социальный аспект продолжал занимать важное место в политике рузвельтовской администрации. С известным правом о нескольких месяцах первой половины 1938 г можно говорить как о “третьих ста днях Нового курса”. Однако соотношение сил в партийно-политической борьбе в 1938 г было значительно менее благоприятным для сторонников Нового курса, чем в 1935-1936гг. Отражая крупные изменения в позиции влиятельных групп корпоративного бизнеса, сформировавшийся в 1937 г консервативный блок республиканцев и южных демократов все более решительно выступал против либерального социального реформаторства. Некоторые наиболее реакционные из республиканцев даже в этот период по-прежнему настаивали на возвращении к постулатам идеологии “твердого” индивидуализма. Правда, большинство деятелей консервативного блока в Конгрессе в конце 30-х годов в принципе уже не возражали против расширения функций государства. Но они считали необходимым резкое сокращение государственного регулирования экономики и выступали против курса на дальнейшие либеральные реформы в социальной области. Попытки Рузвельта добиться поражения некоторых наиболее враждебных Новому курсу деятелей Демократической партии на промежуточных выборах 1938 г окончились неудачей: почти все эти представители непримиримой антирузвельтовской коалиции были переизбраны. Республиканцы на выборах 1938 г значительно увеличили свое представительство в Конгрессе. Все это создало серьезные преграды проведению ряда важных реформ, предложенных правительством Рузвельта. Особенно упорное сопротивление консервативных сил по-прежнему вызывал проект административной реформы. В апреле 1938 г после после бурного обсуждения палата представителей отвергла новый вариант этой реформы - законопроект о реорганизации аппарата исполнительной власти, незадолго до этого утвержденный сенатом. Повторный провал проекта административной реформы явился новым серьезным поражением президента. В 1939 г Соединенные Штаты все же вступили в период замедления либерального социального реформаторства. В определенной степени это было результатом усилившегося противодействия рузвельтовскому курсу со стороны влиятельных групп корпоративного бизнеса и корпоративной коалиции в Конгрессе. Но главной причиной, обусловившей изменение приоритетов в политике правительства Рузвельта в 1939 г, стало резкое обострение международной обстановки и нарастание угрозы второй мировой войны. Это привело к тому, что на первый план в политической жизни США выдвинулись вопросы внешней политики. С началом второй мировой войны государственное регулирование экономики многократно усилилось. Поэтому период 1933-1939 гг. стал лишь начальным этапом превращения государственного экономического регулирования в постоянную характерную черту экономической структуры Соединенных Штатов. Произошло и закрепление основных социальных программ, принятых в 30-е годы. Новый курс стал поэтому и начальным этапом государственного социального реформаторства, началом создания разветвленной социальной инфраструктуры американского общества, что впервые в истории США позволило приступить к практической реализации принципа государственной защиты социальных прав граждан. За восемь десятилетий, отделяющих нас от периода Нового курса, государственное регулирование экономики и социальных отношений в США, как и в других высокоразвитых странах современного мира, стало практически необратимым. Магистральным путем развития американского общества в послевоенный период стало продолжение той линии, которая была начата в годы Нового курса. В результате в настоящее время в США, как и в других высокоразвитых странах Запада, создан эффективный механизм функционирования экономической системы, основанный на взаимодействии трех важнейших составных частей этого механизма: рыночной конкуренции, которая и сейчас играет решающую роль в процессе воспроизводства, корпоративного регулирования и различных форм государственного регулирования экономики, которое существенно корректирует самодействующий ход экономической жизни. Дальнейшее развитие получила и социальная функция современного государства. Создание разветвленной системы социальной защиты граждан, постепенное превращение значительной части социальных низов из аутсайдеров и маргиналов в признанную составную часть современного постиндустриального общества - все это означает, что в современном мире идет своеобразный процесс социализации общественных отношений. В основе современного постиндустриального общества лежат не только капиталистические принципы частной собственности, свободного предпринимательства и рыночной конкуренции, но и не свойственные ранее капитализму принципы государственной защиты не только политических, но и социальных прав граждан. То, что в Соединенных Штатах фундаментальные основы этих кардинальных преобразований закладывались в период Нового курса Франклина Рузвельта, делает этот период крупнейшей вехой истории XX века. Использованы материалы: Новый курс Ф. Рузвельта: значение для США и России: Материалы III научной конференции. 1995 г.; Уткин, А.И. Рузвельт.— М. : Логос, 2000; Яковлев, Н.Н. Франклин Делано Рузвельт : Человек и политик .— 5-е изд. — М. : Рипол Классик, 2003.
| |||||
|
|
|
|||||